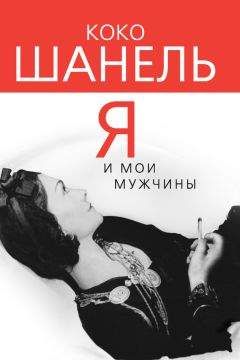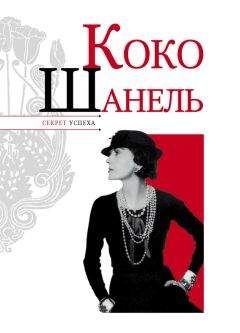Игорь Афанасьев - <a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="29796168677d66646965667f6c076a6664">[email protected]</a> (ФАНТОМ - ЛЮБОВЬ)
Музыка Исаака Максимовича Дунаевского была логическим продолжением творчества его предков — мелодичная, динамичная, легко запоминающаяся, она сразу превращалась в шлягер и вязла в зубах у каждого слушателя. Труднее было с актерами, которые привыкли к опереточной школе вокала и с трудом осваивали нюансы пения в микрофон. Они долго не могли освоить новую школу подачи звука, что, впрочем, не составило труда для Фила. Он то, как и все актеры — американцы, привык к встроенным в воротники микрофонам и плотной фонограмме в звуковых колонках. Фил с удовольствием пел, успевая при этом лихо рубиться с гвардейцами и вести учтивые диалоги с царственными особами.
Роль кардинала Ришелье досталась Виталику. На одной из репетиций Филимон запутался в ударениях чужого для него русского языка, и сановный персонаж немедленно это подчеркнул:
— Скажите шевалье, на каком языке говорят в Гаскони? — подкузьмил он партнера.
— На английском, Ваше Преосвящество! — не моргнув глазом отреагировал Фил.
— Но это же Франция! Вас, видно, плохо учили не только географии, но и патриотизму! — округлил глаза провокатор, а В. В., сидящий в полутемном зале, выдвинул подбородок до стоящего впереди кресла.
— У нас, в Гаскони, Ваше Преосвященство, — еще стремительнее ответил Фил, — учат проявлять патриотизм не языком, а шпагой! А география нам не нужна, потому что все, что мы еще не присоединили к Гаскони сегодня, мы прихватим в ближайшее время!
Он выдернул шпагу из ножен и проделал несколько ловких трюков с оружием, поставив весьма жирную точку в диалоге.
Виталик не выдержал предложенной игры и раскололся, обратившись в зал:
— Ну, вы видите, Вольдемар Вольдемарович, какие перлы импровизации!
— Смотрите, не переусердствуйте, — выплыла к авансцене челюсть постановщика, — из Бастилии люди умудрялись убежать, а из Лукьяновской тюрьмы, по статистике, значительно реже. Можете простудиться в одиночной камере.
— А как же свобода слова? — не унимался Виталик.
— Вы неправильно готовите себя к роли, — невозмутимо отреагровал режиссер, — вы не должны думать о демократических свободах, готовясь играть интригана и тирана. Если хотите иметь свободу слова, то я переведу вас на роль Планше! Тем, чьи слова ничего не решают, всегда было позволено говорить все, что им пожелается!
— Всем молчать! — строго прикрикнул на постановщика Виталик. — Не сметь спорить с кардиналом!
— Это уже ближе, — ласково кивнул шутнику В.В. и протянул руку Филимону. — Импровизации по тексту разрешаются только гасконцам!
Уже на последних репетициях в зале собиралось много народу, а в премьеру был катастрофический аншлаг. Главный администратор выкурила в этот день не одну, а две пачки папирос, но не смогла, все равно, усадить всех значительных гостей на приличные места. Что же касается родственников, знакомых и студентов театрального института, то они просачивались в здание театра по всем подпольным каналам. В результате были забиты все осветительные ложи, в оркестре сидел двойной состав исполнителей, а в проходе негде было упасть даже сушеному яблоку.
Филимон ненавидел предпремьерные часы. В эти оставшиеся мгновения до выхода на сцену с актерами происходят всевозможные глупости: теряются страницы роли, отрываются пуговицы на новенькой рубашке и ломаются каблуки на подошвах сапог, выясняется, что реквизиторы положили пистолет на стол не тому, кто должен стрелять, а тому, кто должен быть убитым. Обязательно застревает в потоке машин примадонна, а когда появляется, и начинается скандал с одеванием, то ей обязательно жгут волосы перегретым феном. За кулисами царит нервный шепот и истерические вспышки исправления последних недостатков.
Внешне невозмутимыми остаются лишь оркестранты: им то что, сидят в глубоком окопе, но и в оркестровой яме лопаются лампочки на пюпитрах за пять минут до занавеса.
Но, все равно, приходит назначенное время. Помощник режиссера вызвает всех на сцену, и тут прибегает за кулисы администратор, который рвет на себе последние волосы и умоляет задержать начало спектакля на пять минут. Пять минут заканчиваются через все пятнадцать. В зале начинаются раздраженные аплодисменты, и тогда к помощнику режиссера влетает разъяренный постановщик с вопросом: «Какого...»
И тогда дают занавес.
Премьера, обычно, проходит в какой-то дымке, словно в пьяном или любовном угаре. Срабатывают автоматизм профессионалов и наработки на репетициях. Нет, все все делают хорошо, но торопясь к результату. Радость процесса приходит позднее, когда ты начинаешь слышать реакцию зала, когда четко определяешь кульминационные места восприятия твоей роли, когда ощущаешь внимание зрителя как вполне осязаемое физическое поле и начинаешь управлять этим полем. Когда общая масса в зрительном зале превращается в хорошо различимые конкректные лица, и ты находишь именно те, которые излучают основной компонент удачи тетрального спектакля — сопереживание.
Откровение души.
Отыграли спектакль лихо. Филимон только успевал сменить промокшую насквозь рубаху и вновь вылетал на сцену любить и убивать. Оркестр звучал отменно, и все ноты и пассажи прозвучали отлично.
А вот и кульминация.
Констанция мертва.
Зал замер в непривычной для опереточного театра драматической ситуации.
Смерть — и песня? Негромко… Почти шепотом, чтобы не спугнуть веру зрителей и внимание:
«... Стою среди друзей я как в пустыне
И что мне от любви осталось ныне — только имя. Констанция.»
Монолог-прощание. Вот она — рука дирижера, зависшая на фермате, а вот и последний точный взмах руки и слаженный аккорд.
Все.
Занавес.
Аплодисменты.
Филимону, в какой-то момент показалось, что в центральном проходе аплодирующего партера мелькают некие бестелесные тени, из тех, что улетели в сторону Лысой Горы в день ухода Розенкрейцеров. Он подумал вначале, что вот и пришел час психиатра, но потом отогнал от себя эту пошлую мысль и поклонился безмолвным зрителям.
Они раскланялись в ответ.
Отвешивали поклоны перед зрителями и создатели спектакля: все было поставлено Главным правильно. Вот скромный дирижер, которого нужно подтолкнуть к авансцене — там он протянет руку первой скрипке и пошлет в яму воздушный поцелуй. А вот экстравагантный балетмейстер — он сам выскочит вперед и потащит за собой весь балет, композитор держится поближе к режиссеру и оба галантно вручают букеты цветов героиням.
Цветов было море, поцелуев, лести и водки на банкете — океан.
А в коридоре к Филу подскочила раскрасневшаяся Анжела и сияющая Людочка и протянули ему букет цветов.
— Сегодня я в вас окончательно влюбилась, — произнесла Анжела очень просто и убедительно.
— Спасибо, — пробормотал совершенно опустошенный Фил, — вы будете на банкете?
— А вы приглашаете? — вмешалась Людочка. — Тогда займите нам место рядышком!
— Пуркуа па, — только и ответил Фил и нырнул в спасительную душевую.
Банкет прошел, как хорошо отрепетированный спектакль. Филимон притащил за главный стол упиравшихся Людочку и Анжелу, и это не прошло незамеченным в коллективе. Глаза творческого состава заблестели жадным блеском сплетни, а глаза композитора покрылись пеленой страсти. Через час он исчез из банкетного зала почти незамеченным, разве что все отметили вслух, что вместе с ним исчезла Людочка. Это происшествие отвлекло внимание коллектива от самого Фила и от Анжелки, которая весь вечер тянула его танцевать, а когда народ начал расползаться по углам и домам, чмокнула Фила в щеку и твердо произнесла:
— Я сегодня тороплюсь домой. Но в следующий раз вы от меня никуда не уйдете.
— Я где-то читал, что никогда не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, — попытался возразить Филимон, но Анжела остановила разгоряченного шевалье очередной простой фразой:
— Вам и так сегодня хватит аплодисментов. Не хочу быть дежурным десертом.
Через неделю композитор Дунаевский женился на Людочке и увез ее в Москву.
Глава пятнадцатая. Под знаком Скорпиона
После повторного фиаско в институте культуры Филипп совсем озверел. На любую попытку отца поговорить о планах на жизнь он реагировал как на дуэльный вызов. Возникали крики и скандалы, в которых главным арбитром выступала бабушка Аня. Она встала стеной на тропе войны между отцом и сыном и объявила привселюдно: — Оставьте «ребьенка» в покое!
И его оставили.
Он бессмысленно тынялся по городу: ни друзей, ни уроков, ни одноклассников. Кто уже поступил, кто еще только готовился поступать в августе — все при деле.
Завернул однажды в свой старый двор на Большой Житомирской, но двор был отвратительно тих и пуст, и он поспешно ретировался оттуда. Кинофильмы шли неинтересные, книги попадались нудные, разве что прихватил у Веры Владимировны «самиздатовскую книжку» по астрологии и с любопытством познакомился с основными чертами своего знака. Полученная информация противоречила законам материализма, но была удивительно схожа с его характером и привычками. Он попытался разыскать карту звездного неба и найти свое созвездие, но поиски успехом не увенчались. В учебнике астрономии ему удалось разыскать лишь отдельные рисунки созвездий и их перечень. Библиотеки были в отпуске или на летнем ремонте. Тогда он вспомнил про свою старую находку и вытащил из-за шкафа старую карту. Она переехала вместе с ним в новую квартиру и, несмотря на попытки отца использовать ее в качестве коврика для малярных работ, была отправлена на хранение за бабушкин шкаф.